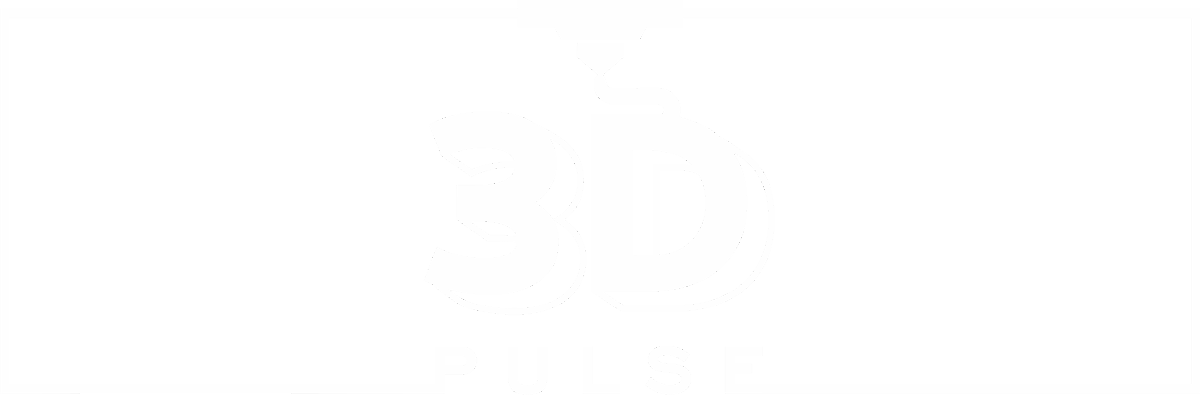От локальных решений к федеральному масштабу
Успешное развитие аддитивного производства и, тем более, утверждение его в статусе одного из драйверов перехода к новому экономическому укладу сегодня невозможно без комплексной поддержки аддитивной сферы со стороны государства. Это аксиома. Но если всё же нужны доказательства, достаточно обратиться к опыту Китая: лидерство Поднебесной в сфере АП зиждется на мощнейшей финансовой, организационной и инфраструктурной государственной поддержке. По поводу усиления такой поддержки сегодня взывают к своему правительству аддитивщики США, всерьез озабоченные всё более активным вытеснением американцев китайцами с лидерских позиций в аддитивке.
У нас о необходимости комплексной господдержки АП тоже говорится много и толково. Однако намного интереснее, что в этом плане реально делается. Причем, делается так, чтобы поддержка стимулировала творческую инициативу, не порождая при этом у промышленников патерналистских настроений. И чтобы государственное регулирование не превращалось в административный барьер, а объединяло усилия производителей и ресурсов территорий, обеспечивая в этой синергии повышение конкурентоспособности отечественных аддитивщиков. Такой опыт наработан в Республике Татарстан. В интервью нашей редакции им делятся председатель правления Промышленного кластера Республики Татарстан Сергей Васильевич Майоров и руководитель отраслевого комитета «Аддитивные технологии» Промышленного кластера Евгений Викторович Дьяконов.
Лидерство Татарстана в аддитивном производстве
Дмитрий Трубашевский:
– Как известно, Республика Татарстан входит в тройку субъектов РФ-лидеров по развитию на своей территории аддитивного производства (АП). Благодаря чему достигнуто это лидерство, и какими мерами стимулирования и поддержки оно сохраняется?

Сергей Майоров:
– В первую очередь мы достигли этого потому, что многие наши предприятия начали применять аддитивные технологии. В их парках оборудования появились и 3D-принтеры, и 3D-сканеры. Кстати, первый отечественный 3D-принтер для песчано-полимерных форм был разработан именно на территории Татарстана.
Этот 3D-принтер по технологии Binder Jetting (BJ) в первую очередь был установлен на ПАО «КАМАЗ». И внедрение даже единственной на тот момент машины в производственный процесс автогиганта обеспечило ощутимый экономический эффект. Новация позволила обходиться на этом участке меньшим числом работников. А главное, этот проект был импортозамещающим: «КАМАЗ» получил возможность изготавливать самостоятельно сложнейшие стержни, которые раньше заказывались только за рубежом. И конечно, это дало ощутимый импульс дальнейшему развитию производства на заводе и продвижению аддитивных технологий на других ведущих предприятиях республики.
3D-принтеры на КАМАЗе
Сегодня на «КАМАЗе» уже установлено несколько таких принтеров. Активно внедряют аддитивное производство и другие компании, убеждаясь в его эффективности. Например, компания «Алнас», поставщик оборудования для нефтегазовой отрасли, с помощью технологии BJ сумела сократить себестоимость изготовления комплектующих для своих изделий в пять раз.
Подобные примеры опровергают некогда устоявшееся мнение, что 3D-печать якобы всегда дороже традиционных технологий. Но сейчас мы убеждаемся на конкретных кейсах, что 3D-принтеры не только позволяют создавать сложнейшие детали, недоступные для традиционного производства, но и демонстрируют снижение себестоимости по сравнению с обычными методами.
Главным драйвером развития АП в республике я считаю деятельность отраслевого комитета по аддитивным технологиям Промкластера Татарстана под руководством Евгения Викторовича Дьяконова. Эта экосистема объединила лучшие компетенции России и дружественных стран в области аддитивных технологий.
Комитет создал информационную площадку в WhatsApp, где участники в режиме 24/7 обмениваются заказами, создают коллаборации, кооперационные цепочки и привлекают инвестиции. Ежемесячные заседания комитета с обязательным протоколированием и контролем исполнения решений создают жёсткую управленческую систему, которая уже даёт свои плоды. Мы собрали лучших представителей отрасли со всей страны и дружественных государств.
Экосистема и масштабирование опыта
Светлана Бакарджиева:
– Думается, ваши подходы было бы целесообразно масштабировать на всю страну. Такая система координации и продвижения аддитивного производства на федеральном уровне пока отсутствует. К вам уже обращались за опытом?
Сергей Майоров:
– Безусловно, наша экосистема не осталась незамеченной. В ноябре 2024 года на форуме «Российский промышленник» мы провели круглый стол по развитию кластерной модели экономики. По инициативе коллег из Санкт-Петербурга было учреждено Деловое объединение кластеров Российской Федерации. Меня избрали председателем правления, в состав которого вошли представители аддитивного сообщества Санкт-Петербурга и Москвы.
На последнем заседании мы приняли решение о масштабировании татарстанской модели отраслевых комитетов на федеральный уровень. Всем нашим комитетам было предложено в течение месяца определить свою готовность к выходу на общефедеральный уровень. Тех, кто выразит готовность, мы будем рекомендовать для работы в новом статусе при Деловом объединении кластеров Российской Федерации.
Преодоление системных сложностей
Дмитрий Трубашевский:
– Сегодня успехи татарстанских аддитивщиков у всех на слуху. Однако и ваши предприятия, внедряющие АП, наверняка сталкиваются с системными сложностями – нормативными, технологическими, кадровыми и т.д. Как они преодолевают эти препятствия?

Евгений Дьяконов:
– Здесь я могу сослаться на собственный опыт работы на Уральском заводе гражданской авиации. На УЗГА я как раз занимался внедрением аддитивных технологий. Мы начинали организацию участка с нуля. Там изготавливаются малоразмерные газотурбинные двигатели с применением деталей, напечатанных по технологии SLM. Этот опыт научил меня практическому подходу к интеграции инноваций – от проектирования цифровых двойников до оптимизации цепочек поставок.
Сегодня эти знания помогают выстраивать систему поддержки резидентов комитета. Например, мы разрабатываем алгоритм быстрого подбора решений для среды печати. Наша цель – сократить время согласования технических заданий от предприятий с 10 дней до суток. Это возможно благодаря большому количеству участников в нашем комитете, безусловно заинтересованных в продвижении возможностей своих компаний.
Автоматизация подбора технологий
Дмитрий Трубашевский:
– Это происходит в основном в ручном режиме, или уже есть автоматизированная система подбора технологий?
Евгений Дьяконов:
– Мы пока работаем в ручном режиме и вынашиваем планы создания автоматизированной системы. Но каждую задачу мы оцифровываем в CRM-системе и постоянно держим на контроле. Эти задачи регулярно всплывают в работе, и мы их контролируем – ничего не остается без внимания.
Сергей Майоров:
– Я еще добавлю, что в каждом комитете поставлена задача создания единых центров продвижения продукции.
Евгений Дьяконов:
– Да, определена компания-оператор Единого Центра: СЛТ-Аддитивные технологии, подготовленно положение о Едином Центре Продвижения отечественного аддитивного оборудования и технологий. Цель – создать единую точку входа в Республику Татарстан по заказам, потребностям и продвижению резидентов, которым требуется помощь.
Сергей Майоров:
– Уточню: речь идет не только о РТ – мы рассматриваем масштаб всей России и дружественных стран. Определена компания-оператор, которая возьмет на себя функции продвижения. Эта компания наделяется полномочиями подписывать дилерские соглашения на добровольной основе. На их базе будет создана единая презентация, разработана программа конгрессно-выставочных мероприятий на текущий год. Компания-оператор будет за свой счет продвигать технологии, представленные в комитете теми участниками, которые изъявили желание подписать дилерские соглашения.
Что это дает? Мы хотим перейти от продвижения отдельных компаний к продвижению всей отрасли. То есть заказчику будет делаться комплексное предложение: подбор поставщиков и оборудования, 3D-сканирование, печать, поставка расходных материалов – всё, что нужно для отрасли. Именно этим и предстоит заниматься компании-оператору в интересах участников комитета.
Светлана Бакарджиева:
– Вероятно, будет установлен высокий порог входа в такую систему. Потребуется тщательный отбор участников.
Сергей Майоров:
– Мы уже изучаем подобный опыт в комитете станкостроения, который очень близок к аддитивным технологиям. Порог входа определяет сама компания-оператор, поскольку при подписании дилерских соглашений она всесторонне оценивает контрагентов. Если один контрагент подведет, может пострадать вся система. Поэтому вся ответственность лежит на компании-операторе.
Перспективные проекты и технологии
Дмитрий Трубашевский:
– А какие значимые проекты в сфере аддитивных технологий будут реализованы в ближайшее время? Наверняка уже есть определенная дорожная карта, о чем можно рассказать сегодня?
Сергей Майоров:
– На сегодняшний день проектный офис сопровождает 176 проектов на общую сумму 353 миллиарда рублей инвестиций. Их реализация позволит увеличить валовой региональный продукт на 1,5 триллиона рублей с бюджетным эффектом более 200 миллиардов.
Это наш сводный отчет по Промышленному кластеру Республики Татарстан. Каждый комитет ведет собственный реестр проектов.
Проекты по созданию центра технологий общего доступа и аддитивный центр по производству станков
Евгений Дьяконов:
– У нас сейчас два приоритетных проекта. Первый – совместный проект компании «УЗГА» (Казань) и «Росатома» по созданию центра технологий общего доступа. На данный момент принтеры «Росатома» RusMelt 300 уже печатают серийные изделия для «УЗГА». В мае планируется ознакомительный семинар для предприятий, после чего будет определен механизм софинансирования со стороны республики и «Росатома».
Второй проект – аддитивный центр по производству станков, который создается совместно с московской компанией «i3D» и технопарком «Идея». Речь идет об организации сборки принтеров под маркой «AM.TECH».
Дмитрий Трубашевский:
– Это, как известно, принтеры для SLM-технологии (селективного лазерного плавления). Как вы считаете, это направление действительно приоритетное для аддитивных технологий в России? Сейчас в этом сегменте конкурируют около 10 компаний – как частных, так и государственных. Почему, по вашему мнению, выбор падает именно на эту технологию?
Binder Jetting технологии
Евгений Дьяконов:
– Я бы не сказал, что все стремятся именно в этот сегмент. У нас успешно развивается технология Binder Jetting – например, в Набережных Челнах ООО «СЛТ-Аддитивные технологии» выполняет полный цикл производства: разрабатывает технологии заливки и 3D модели, подбирает оборудование под качественную 3D печать, производит песчано-полимерные формы, организовано литейное производство, а также выполняют сервисное обслуживание и адаптацию кадров для работы с оборудованием. Это позволяет компании качественно масштабироваться. В мае этого года компания открывает собственный аддитивный центр.
Что касается SLM, то этот рынок уже поделен между ключевыми производителями принтеров. Каждый из них пытается, так сказать, перетянуть одеяло на себя. Мы поддерживаем тех производителей, которые участвуют в нашем комитете и будут участвовать в едином центре продвижения.
В продолжение темы технологий: FDM-печать (полимерная) также остается востребованной. Ко мне регулярно обращаются как члены комитета, так и сторонние организации с просьбами напечатать что-то из пластика.
Сейчас можно выделить три перспективных направления:
- Строительная 3D-печать, которая- развивается очень активно;
- Binder Jetting (песчано-полимерные формы);
- SLM-технология по металлам и сплавам.
На прошедшем недавно в Казани XIX Российском венчурном форуме были представлены три производителя строительных принтеров, каждый со своими особенностями. Выделять какую-то одну ключевую технологию было бы не совсем правильно – для разных отраслей приоритетны разные решения.
Дмитрий Трубашевский:
– То есть, вы открыты для всех разработчиков аддитивного оборудования без ограничений?
Евгений Дьяконов:
– Конечно.
Рост интереса к аддитивным технологиям
Дмитрий Трубашевский:
– По нашим наблюдениям, именно в 2024 и 2025 годах отношение к аддитивным технологиям в отечественной индустрии стало ощутимо более заинтересованным, верно?
Сергей Майоров:
– Не совсем согласен. Мы впервые представили 3D-принтеры для песчано-полимерных форм на выставке около 5 лет назад. Тогда показывали не сами принтеры (они слишком габаритные), а отлитые с их помощью формы.
Комитет по аддитивным технологиям фактически создал этот рынок в России. Благодаря в том числе регулярному участию в выставках, сегодня эта продукция достаточно широко востребована. Компания «СЛТ-Аддитивные технологии» в прошлом году установила у себя одну машину, сейчас монтирует вторую. В мае у них планируется торжественное открытие нового участка – им уже не хватает площадей (8,5 тыс. кв. м).
Дмитрий Трубашевский:
– Действительно впечатляет прогресс в технологии Binder Jetting. Если раньше при необходимости изготовления сложной металлической продукции часто полагались на SLM (хотя это и достаточно дорого), то с появлением BJ стоимость и сложность проектов снизились на порядок. Яркий тому пример – оптимизированная рама для беспилотного квадроцикла, представленная МГТУ им. Баумана. Это действительно прорыв. А в целом у нас в стране есть ряд компаний, которые чувствуют себя достаточно уверенно в этих технологиях и могут составить серьёзную конкуренцию зарубежным компаниям и их продукции. Это очень радует.
Синергия технологий и кластерное взаимодействие
Светлана Бакарджиева:
– Развивая эту тему, хотелось бы затронуть вопрос о синергии от использования различных технологий, включая традиционные. Кластер как форма организации производства как раз предполагает такое комплексное взаимодействие.
Сергей Майоров:
– Вы совершенно правы. У нас 23 отраслевых комитета с руководителями и координаторами, но это не означает изолированности каждого комитета. Главное преимущество в том, что руководители комитетов объединяют лучшие компетенции, и межотраслевое взаимодействие в первую очередь происходит между ними.
На последнем энергетическом форуме «Энергопром» в Казани мы проводили сессию по созданию единого центра продвижения продукции энергетического машиностроения. В ней приняли участие руководители не только профильных комитетов, но и комитетов по аддитивным технологиям, станкостроению, инновациям, роботизации. Они сами проявили инициативу и поделились опытом межотраслевого сотрудничества.
Комитет по аддитивным технологиям является сквозным практически для всех отраслей – станкостроения, авиастроения, робототехники и других, так как заказы поступают из самых разных сфер.
Евгений Дьяконов:
– У нас налажено постоянное взаимодействие с руководителями других отраслевых комитетов. К нам регулярно поступают запросы: как от тех, кто только знакомится с технологиями, так и от тех, кто уже имеет опыт 3D-печати. Мы зарекомендовали себя как оперативный агрегатор решений – быстро находим среди участников исполнителей для любых задач.
Что касается конкретных кейсов, сейчас идёт активное взаимодействие с Комитетом авиастроения по созданию беспилотных летательных аппаратов. Мы совместно прорабатываем решения, которые обеспечат применение современных технологий в их производстве.
Проблемы сертификации и стандартизации
Дмитрий Трубашевский:
– Вернемся к теме системных сложностей, тормозящих широкое внедрение аддитивного производства в стране. В числе таких стоп-факторов аддитивщики обычно в первую очередь упоминают проблематику сертификации и аттестации аддитивных технологий в России. Как у вас решаются эти проблемы?
Евгений Дьяконов:
– В сфере стандартизации сейчас перед нами стоит важная задача по разработке стандартов и уходу от монополии единственных поставщиков технологий и материалов. Для решения этой задачи мы создали профильную инициативную группу, куда вошли эксперты из различных отраслей – нефтегазовой, энергетической и других.
Сейчас мы начинаем сотрудничество с авиастроительной компанией «Туполев» по изготовлению кронштейнов и качалок для их изделий. Наша цель – подготовить комплексное решение от постановки задачи до конечного результата, включая всю необходимую документацию и сертификацию. У нас уже есть отработанная методика.
Кадровый вопрос и подготовка специалистов
Дмитрий Трубашевский:
– Еще одна хроническая проблема отечественной аддитивки – дефицит инженерных кадров в этой сфере. Проблема эта осложняется тем, что аддитивное производство развивается стремительно, и очень трудно даже уследить за всеми появляющимися новациями в нем. Соответственно, и специалистов для АП нужно изначально готовить, что называется, на вырост. На Ваш взгляд, какие знания и компетенции станут ключевыми для специалистов в аддитивном производстве, скажем, через 5 лет? Вы ведь активно работаете с вузами и R&D центрами.
Евгений Дьяконов:
– В части вузов у нас есть передовой опыт КНИТУ-КАИ имени А.Н. Туполева. Там выстроена цепочка подготовки кадров – от школьных кружков до программ аспирантуры. У них есть специальная лаборатория для школьников, где они не просто получают навык печати пластиком, а реализуют полноценные проекты.
На недавнем венчурном форуме было представлено несколько стартапов от КАИ, все в сфере аддитивных технологий, что меня очень порадовало. В ближайшее время представители этого университета войдут в наш комитет, и мы будем помогать продвигать их инновационные идеи.
Также при КАИ есть колледж, где уже лицензирована программа обучения аддитивным технологиям. Первый набор студентов после 9 класса начнётся в 2026 году. Будущее уже наступает – мы часто говорим о нехватке кадров, но уже в следующем году начнётся подготовка профильных специалистов.
А еще в рамках бакалавриата у нас есть отдельная программа «Лазерные аддитивные технологии». Ежегодно на неё поступает около 26 студентов на очную форму и 56 на платную. Обучение ведётся на уровнях бакалавриата и магистратуры. Это направление активно развивается в республике и поддерживается на региональном уровне.
Государственная поддержка и финансирование
Дмитрий Трубашевский:
– Ну а что касается государственной поддержки аддитивной сферы – грантов, субсидий и т.д. – как вы полагаете, их достаточно для развития российских предприятий?
Сергей Майоров:
– У нас используется около 2500 различных мер поддержки, и разобраться в них непосвящённому человеку крайне сложно. Если говорить о динамике по Республике Татарстан, то в 2022 году привлекли 73 млрд рублей в виде государственной финансовой поддержки, в том числе АП, в 2023 – 79,4 млрд рублей, в 2024 – уже 110 млрд рублей.
Таким образом, рост этих показателей за три года составил почти 40%. Мы уделяем особое внимание привлечению этой поддержки, так как она облегчает реализацию проектов. Она может иметь разные формы: субсидий на технологическое развитие, компенсации части стоимости оборудования. В условиях, когда ключевая ставка составляет 21%, а банки предлагают кредиты под 44%, альтернатив субсидированному финансированию практически нет. У нас этим занимается 12 специалистов — это рекорд среди регионов.
Хотелось бы большего
Но мер поддержки всё равно недостаточно. Хотя мы понимаем, что государство не может раздавать «бесплатные билеты» – поддержка фокусируется на программах импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета, где без госпомощи не обойтись.
Если говорить о программе поддержки промышленных кластеров (постановление Правительства РФ №41 от 28 января 2016 г.), то раньше субсидии до 50% получали производители компонентов, а теперь – только конечные производители (финишеры), которые могут получить до 50% субсидий при закупке стартовых партий. Мы считаем, что нужно сохранить поддержку как для финишеров, так и вернуть ее для производителей комплектующих.
В рамках российской кластерной платформы сегодня можно получить около 9% поддержки. Мы работаем над тем, чтобы снизить минимальный порог проекта с 2 млрд до 100 млн рублей. Нас справедливо спрашивают: «Где взять столько денег?» А мы отвечаем: «А где взять столько проектов от 2 млрд?» Таким образом мы постоянно работаем с регуляторами по совершенствованию мер поддержки.
За последние 2,5 года мы направили около 200 обращений в федеральные органы власти. Получили порядка 50 ответов, из которых 3 были положительными. Процент небольшой, но важна правильная подготовка обращений. Недостаточно просто обозначить проблему – нужно предложить конкретные изменения, подкрепить экономическим обоснованием, рассчитать потенциальные налоговые поступления. Тогда шансы на положительное решение значительно возрастают.
Продвижение отечественных комплектующих
Дмитрий Трубашевский:
– Вы упомянули о субсидиях для разработчиков компонентов к 3D-принтерам. Но, по моим наблюдениям, многие компании неохотно переходят на российские комплектующие, считая их ненадёжными, годными только для опытного производства. Они предпочитают работать с китайской или европейской компонентной базой, несмотря на сложности с поставками и более высокую стоимость. Какие меры, на ваш взгляд, помогут изменить эту ситуацию?
Евгений Дьяконов:
– Мы должны активно заниматься просветительской работой среди предприятий, демонстрируя преимущества наших технологий. Приведу пример: один завод, занимающийся ремонтом газотурбинных установок для компрессорных станций, использовал пластиковый защитный кожух. Этот кожух регулярно ломался, и они заказывали его из Германии за 3000 евро. Мы предложили напечатать аналог на 3D-принтере. Изначально они отнеслись к этому скептически, ссылаясь на бюрократические процедуры. Тогда мы просто взяли сломанный образец, отсканировали его (допуски в данном случае не были критичны), напечатали за ночь и принесли им готовое изделие. После успешных испытаний завод стал активно использовать наши технологии, включая FDM-печать оснастки для тестирования форсунок и других деталей.
Такими примерами мы повышаем осведомленность предприятий. Также важно работать с целевой аудиторией – техническими директорами, главными инженерами, показывая им современные возможности. Многие до сих пор считают, что 3D-печать — это хрупкие изделия из силумина, которые рассыпаются от прикосновения. Нужна системная образовательная работа.
Площадки для продвижения и обучения
Дмитрий Трубашевский:
– А есть ли в России площадки, где можно собрать эту целевую аудиторию – инвесторов, руководителей, инженеров? Обучение школьников – это, конечно, важно, но нам нужно в первую очередь охватить десятки тысяч предприятий, чтобы они узнали о возможностях аддитивных технологий.
Сергей Майоров:
– В Татарстане мы создали для этого специальную экосистему. Промышленный кластер и отраслевые комитеты проводят 163 мероприятия в год. Комитет по аддитивным технологиям может участвовать в работе всех площадок. Представители комитета выступают не только в России, но и за рубежом. Мы получаем множество приглашений и предоставляем нашим специалистам возможность выбирать наиболее релевантные площадки.

Евгений Дьяконов:
– Да, этот механизм действительно эффективен для продвижения на выставках и мероприятиях. Когда выступаешь в качестве спикера, к тебе подходят представители 3–5 предприятий с готовыми кейсами и предложениями о сотрудничестве. Как говорится, «с меня идеи, с вас – руки!». Например, на предстоящей выставке «Росмолд» я буду рассказывать о преимуществах и перспективах развития наших технологий. А на V Лидер-Форуме в 2023 году в Казани я выступал дважды. Первый раз на тематической сессии «Аддитивные технологии как драйвер развития», второй – на пленарном заседании с участием первых лиц организаций. Среди слушателей были технический директор «Росатома», представители «Роскосмоса». На пленарке рядом сидели заместитель министра промышленности Татарстана и представители «Росатома» высокого ранга.
Конкуренция с Китаем и защита рынка
Дмитрий Трубашевский:
– Как вы думаете, какие потенциальные опасности для отечественного рынка АП может нести стремительное развитие Китая в этой сфере? Судя по экспозициям последних ключевых отраслевых выставок очевидно, что они семимильными шагами вырываются вперед. Многие западные компании сдают позиции, некоторые даже выкупаются китайцами. Как наша ситуация с аддитивными технологиями может защитить нас от такого проникновения? Особенно если учесть, что российские дистрибьюторы – это коммерческие компании, которые в первую очередь заинтересованы в продажах, а не в продвижении именно российских технологий. Как только появляется возможность импорта из Китая или Запада, они переключаются на эти продукты, создавая на местном рынке настоящий «зоопарк» оборудования. Как от этого защититься?
Сергей Майоров:
– Вы дали точное определение этому явлению – «зоопарк». И это действительно большая проблема для предприятий, которым приходится обслуживать разноплановое оборудование. Когда специалисты по разным причинам уходят, предприятия рискуют потерять не только кадры, но и сами устройства.
Российские поставщики
Евгений Дьяконов:
– В нашем комитете практически нет поставщиков китайского оборудования. Мы работаем в основном с производителями российской техники и продвигаем отечественные технологии и материалы. Наша цель – развивать внутренний рынок, чтобы быть конкурентоспособными на мировом уровне. Если мы будем, бездействуя, только смотреть на Китай, Европу или Америку и говорить, что у нас ничего не получится, то этот «зоопарк» оборудования действительно обоснуется на наших предприятиях. Поэтому через механизм единого центра продвижения технологий мы планируем расширять круг предприятий, где можно применять отечественные решения. Наша цель – работать с российским оборудованием, технологиями и материалами, двигаясь единым фронтом к уровню развития, сопоставимому с китайским. Хороший старт позволит затем развиваться по накатанной.
Сергей Майоров:
– Мы административно поддерживаем создание единых центров продвижения в каждом отраслевом комитете. За 11 лет работы у меня накопилась база из 17,5 тысяч контактов — это достояние Татарстана, которое теперь будет работать на всю страну. Мы можем открывать любые двери в России и дружественных странах для продвижения отечественной продукции.
Как Вы правильно заметили, мы создаем, например, Единый центр продвижения отечественных станков и инструментов. Наша задача – объединение усилий производителей и ресурсов республики. Эта синергия даст хороший эффект в конкуренции с иностранными производителями.
Интеграция новых технологий
Светлана Бакарджиева:
– Сегодня ни один разговор о перспективах развития высокотехнологичных сегментов индустрии не обходится без обсуждения возможностей интеграции в производственные процессы новых технологий: искусственного интеллекта, применения бионического или генеративного дизайна и т.д. Как эти инструменты используются или будут использоваться в работе кластера?
Евгений Дьяконов:
– Мы разрабатываем системы для так называемого онлайн-мониторинга, которые на этапе производства обнаруживают дефекты в деталях. Эти дефекты способны вывести конечное изделие из строя. Это позволяет сократить издержки на 10–12%. Также ИИ используется для предиктивной аналитики – мониторинга состояния оборудования и предупреждения его поломки. Без искусственного интеллекта нам уже не обойтись.
Дмитрий Трубашевский:
– Однако ИИ – инструмент обоюдоострый и при чрезмерном увлечении им или неумелом обращении может дать опасные «побочки». Сейчас эксперты предупреждают о возможной проблеме, извините за грубость, «размягчения мозгов» у будущих специалистов. Сегодняшние школьники и студенты часто идут по пути наименьшего сопротивления, используя ChatGPT и его аналоги для получения готовых ответов. Не потеряем ли мы в итоге способность мыслить творчески и рационально? Как этого избежать?
Светлана Бакарджиева:
– Да, мы уже слишком много делегируем искусственному интеллекту, а его возможности всё же ограничены.
Евгений Дьяконов:
– В нашем комитете есть замечательная организация «Мир занимательной науки и техники». Там школьников с первого класса знакомят с передовыми технологиями – показывают спускаемые модули ракет, вертолёты в разрезе, бытовую технику. Большое внимание уделяется 3D-печати.
КНИТУ-КАИ разработал образовательную платформу, где студенты с бакалавриата до аспирантуры разрабатывают практические ноу-хау. Здесь можно всё пощупать руками – чего не может дать ИИ. Искусственный интеллект будет развиваться параллельно, но не заменит полностью человеческое мышление.